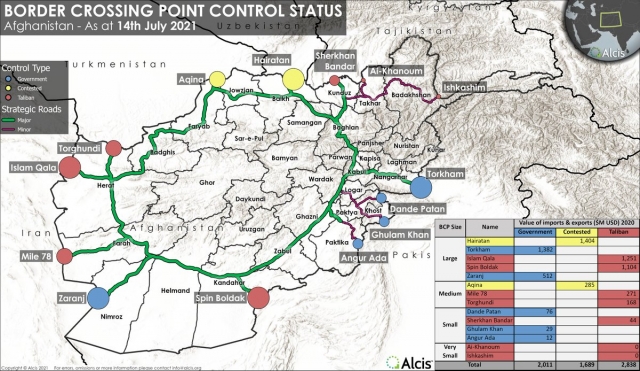Богуславский: Планы Васильевой схожи с контрреформами образования Сталина
Ведущий российский специалист по теории и истории образования рассказал «Колоколу России» об истоках национальной школы и курсе нового министра на дезинтеграцию с Западом.
Отечественные образование и наука, будучи наследниками обучающих систем Российской Империи и Советского Союза, сейчас находятся в своеобразной точке бифуркации. После тяжелых, экспериментальных 90-х годов прошлого века и поворота в сторону евроинтеграции в 2000-ные сохранить великие завоевания прошлого становится все сложнее. О последних изменениях в государственном взгляде на российское образование, об инициативах нового министра Ольги Васильевой «Колокол России» побеседовал с настоящим научным экспертом в этой области, академиком РАО Михаилом Богуславским.
От крещения Руси до революции
«Колокол России»: Михаил Викторович, изначально я задумывал это интервью как обзорный исторический экскурс. Думаю, что многим нашим читателям будет интересно узнать об истоках и метаморфозах национальной образовательной системы, пусть это и займет значительную часть нашего разговора.
Начнем с того, что многие «продвинутые люди» традиционно ругают наше образование, называя его исторической калькой с западных моделей. Насколько это справедливо и можно ли выделить какие-то моменты, привнесенные в русское образование собственно русскими?
Михаил Богуславский: Мы знаем, что и православие, и образованность к нам пришли из Византии. В основу был положен греческий образец, греческий язык и традиции. Русь в одночасье вошла в очень мощную античную традицию, которая в дальнейшем развивалась на русской почве.
После 1054 г., когда произошло официальное разделение христианства на западное и восточное, возникло два принципиально разных подхода к образованию. На Западе университеты начали появляться еще в 11 веке, где-то в 13-14 вв. там уже отстраивалась вполне современная для того времени система обучения.
В России же ничего подобного не было. У нас существовало небольшое количество т.н. «мастеров грамоты», учивших детей на дому. Курс обучения в основном был ориентирован на религию: дети изучали часослов, псалтырь, молитвы и, естественно, параллельно обучались первым навыкам чтения, письма и счета. Этим наше образование ограничивалось.
В 14-15 вв. на Руси был расцвет монастырей, в которых велось обучение грамоте: Кирилло-Белозерский, Чудов монастырь, Троице-Сергиева Лавра… Там аккумулировался небольшой слой людей, которых называли книжниками. Но самое главное, что изначально образование у нас никак не было связано с социальным лифтом, оно не имело позитивной оценки в обществе. Статус человека определялся сословием, в котором он рождался. А главным критерием образованности оставалось знание Священного Писания.
КР: Известно, что ситуация начала резко меняться в петровскую эпоху. Верно ли то, что система того времени образования отстраивалась целиком по западному образцу?
М.Б.: Еще в середине 17 в. появляется Киево-Могилянская академия, чуть позже – Славяно-греко-латинская академия в Москве, но единой системы на тот момент по-прежнему не существовало. Петр Первый, открыв в начале 18 в. Школу математических и навигационных наук, перенимал прежде всего шведский опыт, тогда как Екатерина Вторая заимствовала в основном австрийские модели.

А с 19 в. основное влияние на российское образование оказывала германская педагогика, плюс различные идеи французского Просвещения. Что касается русской православной грамотности, она изначально аккумулировалась в крестьянской среде, в городских низах. Представители дворянства зачастую владели устным и письменным французским языком лучше, чем русским.
Первым великим русским педагогом можно по праву считать Константина Ушинского. Он активно защищал тезис, что школа может быть только национальной – русской, немецкой, французской, что «школы вообще» не существует. В том же ключе рассуждал он и о русской педагогике.

КР: Но ведь до него был Михаил Ломоносов, который всячески противостоял норманнской теории образования государства на Руси и прогерманской Академии наук. Разве его нельзя считать первым автором идеи русского национального образования?
М.Б.: Конечно же, Ломоносов совершил кардинальный переворот, но у него было мало единомышленников. Он действовал в узком пространстве созданного им вместе с графом Шуваловым Московского университета и гимназии при нем. Главное, что сделал Ломоносов – он первым в нашей стране начал читать лекции на русском языке. До него все преподаватели делали это исключительно на немецком или латыни.
Конечно, это был важный, переломный шаг. Ломоносов собирал вокруг себя молодых, патриотически настроенных преподавателей. Он обозначил важную тенденцию, которая в 18 в. в силу ряда политических причин не могла получить массовую поддержку.
КР: Дальнейший подъем патриотической линии в образовании, надо полагать, был связан с Отечественной войной 1812 года?
М.Б.: В начале 19 в. в силу Отечественной войны с французами патриотическая проблематика в нашем образовании действительно усиливается. Появляются славянофилы, которые изначально сами себя, кстати, так не называли. Они предпочитали именоваться почвенниками, апеллировали не столько к славянству, сколько к русской самобытности. В частности, адмирал Александр Шишков, бывший министром народного просвещения в 20-х годах 19 в., действовал в этом ключе. Он вел активную борьбу с иностранными заимствованиями, зачастую наталкиваясь на сопротивление прозападно ориентированного дворянства.
При этом надо заметить, что до конца 19 в. главным критерием образованности в российском высшем обществе считалось знание французского и немецких языков. Даже министр Сергей Уваров, автор идеологического циркуляра «Православие, Самодержавие, народность» писал только по-французски. Все это свидетельствовало о назревшей необходимости создания русской школы.
КР: До конца 19 в. русские гимназии оставались учреждениями для избранных?
М.Б.: Судите сами. В 70-80-е годы 19 в. из 100% детей, поступивших в русскую гимназию, заканчивали ее от силы 3-4%. Многие оставались на второй и третий год, еще больше юношей отсеивалось. Главной заковыркой для детей становилось изучение латыни. Высокие требования по ее знанию делали наше образование узко элитарным. Недаром экзамены в русских гимназиях называли «избиением младенцев». В итоге те, кто все-таки смог выпуститься, знали по 3-4 иностранных языка и оставались людьми высочайшей образованности, их уровень конечно же заметно превосходил всех выходцев из СССР в 20-х, 30-х и начале 40-х годов. Ну а те, кто сумел затем закончить университет, знали уже по 6-7 языков, включая церковнославянский и английский.
КР: А как в царской России обстояло дело с подготовкой технарей?
М.Б.: Знаете, в советской истории педагогики до поры было принято очень критически относиться к Николаю I. Его эпоха мазалась исключительно черным цветом – императора называли обскурантом, реакционером и т.д. Сейчас мы понимаем, даже не вдаваясь в глубокие исторические экскурсы, что этот правитель очень много сделал для развития русского образования.
Да, он не очень любил университеты, сокращал количество студентов и преподавателей, даже запретил на время преподавание философии, сказав: «Польза этой науки еще никем не доказана, а вред совершенно очевиден».
Но говоря об этом, нельзя забывать, что Николай I наиболее активно после Петра развивал русскую инженерную школу. С 30-х годов было создано полтора-два десятка технических институтов, заложена основа для негуманитарного образования. В начале 20 в. у нас уже были выдающиеся достижения в этой сфере – их выпускники с гордостью носили инженерные фуражки, которые в 30-е годы большевики называли «вредиловками».
Благодаря выпускникам николаевских институтов Россия перед Первой мировой войной занимала 1-2 место в мире по развитию технических дисциплин.
Наконец, в начале 20 в. делаются активные попытки создать русскую национальную школу, особенно стоит выделить 1915-16 гг., период после начала Первой мировой войны. После германской агрессии мы больше не могли строить свое образование по их модели. Кстати, в декабре 2016 г. исполнится сто лет с момента реформы графа Павла Игнатьева – выдающегося министра народного просвещения. Он как раз и пытался строить нашу школу на национальной базе. При нем до 70% времени занятий в гимназиях отводилось изучению истории России, русскому языку и литературе. В основу был положен патриотический дискурс, и с этой позицией мы подошли к революционному 1917 году.

Слом и ренессанс традиций
КР: В чем заключалась самобытность советского образования, опиралось ли оно изначально на достижения царской эпохи?
М.Б.: Надо понимать, что процесс развития советского образования был совершенно нелинейным. Октябрьская революция в обязательном порядке должна была отвергнуть всю дореволюционную образовательную систему. Была поставлена задача создать принципиально новую школу, никакой преемственностью с царской Россией поначалу и не пахло.
Первые большевики у власти были, разумеется, абсолютными западниками в плане образовательной ориентации. Они положили в основу американскую модель одного из самых известных педагогов 20 в. – Джона Дьюи. Эта модель идеально ложилась на коммунистическую идеологию, где уже в школе симулировалась модель общества и государства, основой всего был высокопроизводительный труд.
В результате в 20-е годы прошлого века в России был совершен уникальный, авангардный образовательный эксперимент. Несколько лет в школах не изучались арифметика и русский язык, так как считалось, что это «предметы-средства», они не имеют собственной значимости, и можно просто изучая, к примеру, литературу выучить русский, а изучая физику – выучить математику.
Также была отменена система классов как ступеней образования – вместо них создавали группы, возобладал т.н. «бригадный» принцип обучения с длительным планированием. Порой в этой системе случались яркие прорывы, но они не имели под собой социально-экономической основы. И когда началась индустриализация, все это всплыло на поверхность.
Вступительные экзамены в вузы и техникумы в конце 20-х годов были просто ужасными, абитуриенты не могли сложить квадрат a и b… Нарком просвещения Луначарский тогда с горьким юмором отмечал: «Народный секрет расстановки запятых утрачен навсегда…»
КР: Выходит, что наши ярые революционеры-антикапиталисты «ленинской волны» на практике полностью скопировали образовательную систему самого капиталистического, буржуазного государства?
М.Б.: А куда им было деваться, если они пришли к власти в России на лозунгах вроде «Мы свой, мы новый мир построим!»? Ведь коммунистической педагогики фактически не существовало. Было лишь несколько брошюр Ленина, пара работ немецких социал-демократов – вот и все. Пришлось им копировать передовой опыт американских капиталистов.
КР: Опыт, как показала практика, был неудачный и во многом даже разрушительный…
М.Б.: Отсюда логически вытекала сталинская контрреформа 30-х годов, ставившая задачу стабилизировать образование. Вся идеология и наработки школы 20-х были отброшены, и вот здесь как раз начала восстанавливаться преемственность дореволюционной модели. В 1936 году Ушинский был снова провозглашен самым великим русским педагогом, до этого о нем 16 лет вообще никто не вспоминал.
Та модель образования, которая существовала в СССР до середины 50-х годов она очень точно называлась «сталинской гимназией». Без латыни и греческого, конечно, но с логикой и психологией, не говоря уже обо всех базовых технических и гуманитарных дисциплинах. Тут нечего скрывать: все документы по образовательной реформе были либо написаны, либо полностью отредактированы Сталиным – это целиком его заслуга.

Не будем забывать, что во время войны и до 1954 г. в крупных городах вновь произошло разделение школ на мужские и женские. Мотивация была такая – школа перестала готовить юношей-воинов, им необходима специальная, мужская подготовка. В 1943 году еще казалось, что Великая Отечественная война будет долгой, поэтому причины такого разделения – чисто практические.
КР: И сталинские преобразования быстро дали свои плоды?
М.Б.: Можно условно сказать, что в ВОВ победил советский десятиклассник. Кадровый состав офицерства, как правило, выбивается в первые месяцы войны. Затем в дело идут офицеры запаса, и немцам в 1942-43 годах уже катастрофически не хватало грамотных командиров. У них ротами и даже батальонами командовали унтер-офицеры. У нас же юноша, заканчивающий школу, имел такой технический и политический уровень подготовки, что ему хватало 3 месяцев офицерских курсов, и в 18 лет он был готов командовать взводом, а затем и ротой, и батальоном. В 1944-45 годах наши кадровые офицеры уже по всем параметрам превосходили немецких, что во многом повлияло на исход войны.
КР: Известно, что многие иностранные специалисты в 60-е и 70-е годы признавали советское образование лучшим в мире.
М.Б.: Это правда. После Карибского кризиса 61-62 годов, когда мир едва избежал Третьей мировой, ускоренными темпами пошло мирное соревнование между СССР и США – в образовании, спорте, идеологии, культуре. Мы стали себя позиционировать во всем мире не только как мощную военную машину, а как передовиков в самых разных сферах жизни.
В образовании у СССР имелись непререкаемые достижения, носившие общепризнанный характер. Первое – выдающаяся система дошкольного образования, которую многие скандинавские страны, к примеру, с радостью заимствовали. Второе – выдающаяся дефектологическая и коррекционная школа, великие психологи, которые добивались уникальных результатов при работе с детьми с задержками в развитии или ограниченными возможностями.
Был такой общемировой стандарт – КИМ (коэффициент интеллекта молодежи), по которому в 60-е годы мы занимали первое место.
КР: Многие до сих пор критикуют «пионерию и комсомолию» за топорность идеологической подготовки и принудительное хождение строем… А вы как оцениваете эти инстанции?
М.Б.: Пионерская и комсомольская организации несли в школе огромную педагогическую функцию. Они «отбивали возраста», помогали детям взрослеть и адаптироваться к взрослой жизни. Я оцениваю их социализирующую роль как совершенно выдающуюся, притом, что идеология, опять же, занимала там десятое место – на уровне цвета галстука. Никто от нас, учителей, не требовал водить детей строем, наоборот, приветствовался личностный подход. Простор для творчества в педагогике был очень большой, поэтому до сих пор вспоминаю те времена с теплотой.

Когда в 1992 году эту систему решили упразднить, тем самым были уничтожены ступени взросления, новые поколения перестали адекватно оценивать свой возраст и ударились во все тяжкие. А сейчас мы имеем 17-летних инфантильных юношей и девушек, демонстрирующих всем свою «взрослость», делающих детей и не имеющих понятия о социальной ответственности.
КР: 90-е годы прошлого века – эпоха тотальных постсоветских реформ, последствия которых до сих пор сложно объективно оценить. Выходит, советская школа тоже не выдержала проверку на прочность и потому была видоизменена?
М.Б.: Если брать уже 90-е годы, могу сказать, что советская школа разбилась не идеологически. Ее ахиллесовой пятой стал принцип: хорошо научить всех всему. Но эта задача в силу индивидуальных особенностей детей оказалась нерешаемой и к тому же ненужной. А ведь она звучала как «альфа и омега» советской школы. Само содержание образования, не считая кружков и факультативов, носило единый характер и никак не дифференцировалось. Например, я был ярко выраженный гуманитарий, а мои сверстники – технари. Тем не менее, математику и историю с литературой нам всем преподавали в равном объеме.
В СССР опасались, что дифференциация в содержании школьного образования приведет к социальному расслоению общества. Конечно же, по факту советское общество было дифференцировано, и эта политическая догма мешала индивидуально-личностному развитию. Вариативность в образовании – главное достижение 90-х годов, как бы субъективно мы к этому ни относились.
Человек важнее «образовательных институтов»
КР: Давайте наконец перейдем к современному состоянию российского образования. Чем, по-вашему, занимались предшественники нынешнего министра Ольги Васильевой – Фурсенко и Ливанов? По многим оценкам, их курс на евроинтеграцию учебных институтов привел к разрушительным последствиям.
М.Б.: Здесь есть несколько пластов. Действительно, начиная с 2000-х годов, еще при министре Филиппове, был взят курс на интеграцию российского образования с западной системой. Мы вступили в Болонский процесс – далее и Фурсенко, и Ливанов всего лишь исполняли этот стратегический вектор. Именно при Филиппове были озвучены ключевые моменты новой реформы: двухуровневая система бакалавриат/магистратура, единый экзамен (ЕГЭ) и т.д.
Будучи ректором РУДН, Филиппов отмечал, что мы посыпались по количеству иностранных студентов. В советское время мы занимали 3-е место по иностранным студентам, а в 90-е годы упали на 57-е. Да и учились у нас в основном нищие люди из Африки. Наши дипломы и аттестаты не признавались в мире, потому что не было системы госоценки. И наши выпускные экзамены на Западе не стоили ничего. В итоге для работы на Западе наши граждане испытывали огромные сложности, потому и был изменен курс.
КР: А стоило ли проводить такие изменения, в результате которых образование из обязанности педагога и государства превратилось в любезно оказываемую нам «услугу»?
М.Б.: Новый министр Васильева как раз выступила резко против этой формулировки. Недавно у нас состоялось серьезное совещание с ней и ректорами ведущих вузов.
Так вот, появление нового министра было встречено ректорским корпусом страны аплодисментами стоя. Ни разу Дмитрия Ливанова никто так не встречал!
Васильева заявила, что нам надо забыть слово «услуга» и вернуться к слову «служение» в образовании. Не будем забывать, что новые формулировки возникли в связи со вступлением России в ВТО, которая диктует странам-участникам свои условия, в том числе в отношении образовательной политики.

По сути, на нашем совещании был провозглашен курс на отказ от двухуровневой Болонской системы, возвращение от бакалавров-магистров к классической пятилетней подготовке специалистов. Также реформы ожидают аспирантуру, которая ныне провозглашена у нас третьим уровнем образования. Ольга Юрьевна заявила о том, что надо вернуться к аспирантуре именно как к научной, а не обучающей структуре.
Меня просто поражает, что по старой программе, продвигавшейся Ливановым, никакая защита диссертаций в аспирантуре вообще не была предусмотрена! Там написано, что по ее завершению выпускник должен просто предоставить некий «научный доклад», фактически предлагается лишить его научного руководства.
КР: Выходит, предложения Васильевой можно сравнить со сталинскими контрреформами 30-х годов, вернувших национальное образование в традиционное русло?
М.Б.: Да, во многом – так и есть. У Васильевой, насколько я понимаю, три основных предложения: постепенное возвращение от бакалавров к специалистам, реформация магистратуры как неясной надстройки над бакалавриатом и возвращение аспирантуры из образовательного в научное лоно.
Знаете, если в советское время человек не заканчивал аспирантуру с предзащитой, его научный руководитель в случае пары таких сбоев мог лишиться зарплаты или даже потерять свой статус. Действовал народный контроль, преподавателей вызывали в партбюро. То есть все работало на то, чтобы аспирант по максимуму занимался наукой. Если мы сейчас перейдем на трактовку аспирантуры как ступени образования, по ливановским лекалам, из 5000 аспирантов защищаться будет в лучшем случае десяток. Это приведет к научной катастрофе.
Пятилетнее обучение на специалистов – это укорененный вариант для России и, ранее, для СССР. Он нам привычен и наиболее эффективен. Ведь не случайно те профессии, которые имеют отношение к здоровью, к жизнеобеспечению государства – медицина, ветеринария, ФСБ, МЧС – на них по-прежнему готовят специалистов, а не бакалавров.
В Китае, к примеру, собственная система высшего образования – так что упираться в Болонский вариант как единственно верный вовсе не правильно. Но при этом надо осознавать – в случае отказа от него в отношении образования и трудоустройства в Европе у нас снова начнутся проблемы.
КР: А что насчет ЕГЭ, от него тоже постепенно будем отходить?
М.Б.: Сейчас активно расширяется устная часть по русскому языку и литературе, полный отход от готовых тестовых ответов уже не за горами. Естественно, комичные вопросы типа «Сколько было больных в палате номер шесть?» или «Какой породы была Каштанка?» уходят в прошлое.
Но здесь я должен указать на один важный факт. До введения ЕГЭ иногородних студентов на филфаке СпбГУ было 10%, а 90% были питерскими. После введения ЕГЭ соотношение постепенно менялось и дошло до 70/30 в пользу иногородних. То есть этот экзамен является отличным трамплином для образовательного роста жителей провинции, о чем они раньше не могли и мечтать.
КР: В любом случае в нынешних реалиях, когда западные ректоры, по сути, просто обслуживают интересы заказчиков-транснацкорпораций, образование становится слугой бизнеса, а суверенитет отдельных государств и благополучие их народов отходят на второй план, действия Васильевой могут оказаться для нас спасательным кругом. Если я вас правильно понял, она как раз намерена сделать шаг в сторону от Европы?
М.Б.: Министр пока находится у руководства всего два месяца, поэтому говорить о том, что ей сделано, пока рановато.
Но из провозглашенных инициатив я как ученый могу сделать вывод: произошла важнейшая смена стратегии, смена парадигмы.
Ее предшественник занимался в основном абстрактными «образовательными институтами». В концепции Ливанова не было ни ребенка, ни педагога, ни студента, ни учителя. Она была целиком бездушна – потому и не пользовалась популярностью у образовательного сообщества.
Васильева же сразу провозгласила: в центре находятся ребенок и учитель, то есть субъекты. Это самое важное, а все остальное уже дополнительные надстройки: возвращение уроков труда как общественно-полезной деятельности, воспитание личности вместо натаскивания на ЕГЭ и т.д.
Как показало наше недавнее совещание, решать заявленные задачи будет очень сложно, потому что процессы, запущенные с начала 2000-х годов, тяжело поворачивать вспять. Примерно два года назад мы выпустили последнего специалиста, а теперь снова пытаемся вернуть пятилетку. Но строить для педагога всегда приятнее, чем ломать, я и смотрю на будущее российского образования с оптимизмом.
Беседу вел Иван Ваганов